| Всё, что находится выше этой линии, не имеет к нашему сайту никакого отношения. Извините, но бесплатный хостинг имеет свои недостатки. |
|
|
| Всё, что находится выше этой линии, не имеет к нашему сайту никакого отношения. Извините, но бесплатный хостинг имеет свои недостатки. |
|
|
|
Сергей ЖИРНОВ,
политолог, публицист, политэмигрант (Франция), |
||
|
ИРОНИЯ СУДЬБЫ ШПИОНА Лубянско-ясеневские байки: главы из неопубликованного |
|
|
|
Часть четвертая: долгий путь в шпионы |
||
|
|
В том, что я со временем попал в нелегальную разведку КГБ СССР, не
последнюю роль сыграла брежневская Олимпиада-80. Но чтобы вы, мои
читатели, поняли, какую именно, мне нужно предварительно и подробно
рассказать вам о том, почему я стал изучать французский язык, как я его
изучал, как с становился франкофилом и франкофоном, а также олимпийским
гидом-переводчиком для работы на Брежневиаде. Чтобы вы поняли, в каком
состоянии души я подошёл к этому жизненному рубежу, важному для всей
страны и для меня лично. Глава 4.1. КАК Я СТАЛ ФРАНКОФИЛОМ  Ирония судьбы будущего шпиона началась в июле 1978 года, сразу после
успешной сдачи вступительных экзаменов в Московский государственный
институт международных отношений (МГИМО) при Министерстве иностранных дел
(МИДе) СССР. Ирония судьбы будущего шпиона началась в июле 1978 года, сразу после
успешной сдачи вступительных экзаменов в Московский государственный
институт международных отношений (МГИМО) при Министерстве иностранных дел
(МИДе) СССР. На заседании мандатной комиссии какой-то из институтских начальников меня ехидно и с подначкой спросил: «А что, если мы Вам дадим изучать корейский язык?» Будучи тогда до беспамятства довольным уже тем, что моё зачисление в престижный ВУЗ практически состоялось, в то время я был готов на всё. «Партия сказала «Надо!», комсомол ответил «Есть!» – громким и звонким голосом идеологизированного идиота процитировал я сталинский нафталиновый партийный слоган. Мгимошные начальственные дядьки и тётки удовлетворенно закивали головами и отпустили меня с богом. Провокация с корейским языком на мандатной комиссии оказалась этаким пробным шаром, издевательской шуткой начальствующего чиновника, упивавшегося властью. Корейского, слава богу, мне не дали, но по моему поступлению в этот престижный и элитный ВУЗ, партия и правительство поручили овладевать с нуля абсолютно новым для меня иностранным языком – французским. До института, с пятого по десятый классы средней школы, я занимался английским и обожал английский. Мне исключительно повезло со школьными учителями, и удалось достичь в овладении языком Шекспира весьма неплохих результатов для неспециализированной школы. В 1978 году, перед окончанием школы, на московской городской олимпиаде среди учащихся общеобразовательных, неязыковых школ у меня даже получилось занять весьма почётное третье место (про ежегодные первые места на районных олимпиадах речи даже не идёт). Не скрою, что мне было очень обидно менять свои лингвистические предпочтения в институте по приказу сверху. Но, как я сам цитировал отца народов и пресловутого эффективного менеджера ГУЛАГа, когда партия говорила «Надо!», комсомольцы были обязаны отвечать: «Есть!» Особенно – студенты такого идеологического и закрытого ВУЗа как МГИМО. Даже, если это им и не нравилось. Таковы были правила игры с совковым режимом. Даже для элит. Итак, с 1978 по 1983 годы я учился на факультете Международных
экономических отношений (МЭО), в только что открывшемся новом комплексе
зданий МГИМО на юго-западе Москвы. |
|
Глава 4.2. КАК ОВЛАДЕВАТЬ
ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ (Опыт старого нелегала). 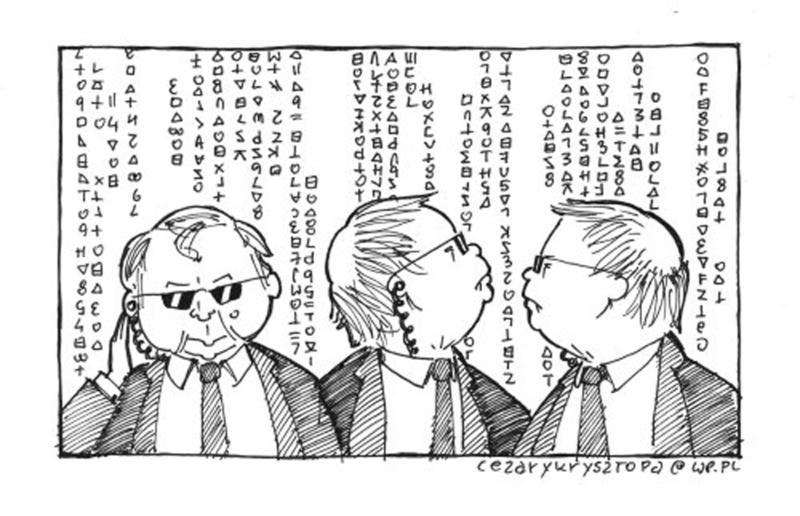 А сейчас, мои дорогие читатели, я начну вам открывать шпионские секреты! Стану выдавать государственную тайну: как овладевать иностранными языками. Обыватели и дилетанты у нас говорят: «учить иностранный язык», «он выучил язык». Это полная, безграмотная чушь. Выучить можно стих, песенку, правило грамматики, закон физики, таблицу умножения или Менделеева. Язык не учат. Потому что у него нет конечного предела, и он – живой, меняющийся организм. Языком овладевают! Как видом спорта, как вождением автомобиля, самолета, парохода, яхты, игрой на музыкальном инструменте. В наш век постоянно растущих скоростей люди, словно сумасшедшие, куда-то несутся, сломя голову. И хотят освоить всё в кратчайшие сроки, в том числе и иностранные языки. Такой неправильный, перекошенный спрос порождает требуемое ложное предложение, и наоборот: неправильное предложение формирует ложный спрос. Отсюда у нас чрезвычайно распространены якобы интенсивные и весьма короткие методы преподавания. Английский, французский, китайский – за две недели, месяц, два! Во сне! Не прилагая усилий! Если вы увидите подобные объявления, знайте: это – чистое шарлатанство, жульничество, обман, вымогательство у вас денег. Женщина вынашивает ребенка 9 месяцев, и иного не дано. План «Барбаросса» – блицкрига, быстрой войны – Адольфа Хитлера против СССР торжественно провалился в 1941 году. Блиц-курсы иностранного языка оправданы только в одном случае. Допустим, вы узнали, что через месяц поедете за границу, в незнакомую страну с незнакомым языком. Вам нужно не чувствовать там себя полным идиотом, не быть полностью потерянным и зависимым от гида-переводчика. Только в этом случае можно и нужно срочно осваивать интенсивный базовый курс. Помня о главном: это – никакое не нормальное овладение языком, а вынужденная мера. Она вам даст минимальный словарный запас, чтобы вежливо поприветствовать собеседника, доставив ему удовольствие и выказав уважение вашим интересом к его языку. Вежливо поблагодарить, вежливо осведомиться, перекинуться парой дежурных фраз на самые банальные темы, не чувствовать себя потерянным в чужой стране. И всё! Ничего более! Тот, кто надеется ухватить успех за хвост за несколько недель или месяцев, обречён на неудачу. Олимпийское золото не завоевывают наскоком. Нельзя стать олимпийским чемпионом после пары недель занятия спортом "с нуля". Нормальное, правильное овладение иностранным языком – это процесс длительный и, к сожалению, обратимый. Талантливый спортсмен может, со временем, стать олимпийским чемпионом, и за ним всегда останется это почётное звание, но это не означает, что у него надолго и реально сохранится чемпионский спортивный уровень. Если перестать практиковать язык, достигнутая степень владения тоже быстро теряется. Но, в отличие от спорта, языковые навыки можно вернуть на прежний и даже более высокий уровень, практически независимо от возраста, но только в результате регулярных тренировок и практики. Неправильно говорить: я владею языком хорошо, плохо, со словарём, свободно, как у нас широко принято, и как того требуют дурацкие анкеты. Это – слишком расплывчато. Вспоминается классная шутка полковника Костенко из «Противостояния» Юлиана Ляндреса (Семёнова): «Есть у нас такая хитрая формулировка в кадровых анкетах. Если кто-то знает два немецких слова «Гутентаг» и «Ауфвидерзеен», он пишет: читаю со словарём.» Для тех, кто овладевает языком в школьном классе или в студенческой аудитории, правильно говорить: я овладел языком на уровне программы такого-то класса, курса, учебника, стольких-то семестров языкового ВУЗа. Да и то – на конкретный момент сдачи соответствующих экзаменов или зачётов. Потому что через месяц-два, полгода, год это утверждение уже не имеет смысла (когда-то я владел…). Существует миф, что иностранным языком на высоком уровне можно овладеть только за границей, и только общаясь там с его носителями. Это – тоже неверно. Потому что место должно быть адекватно вашему уровню. Дети и подростки – исключение. Они, оказавшись в другой стране, схватывают всё моментально и на подсознательном уровне. Учиться плавать лучше в тихом бассейне с тренером, а не одному в разбушевавшемся от шторма океане с акулами. Азами, базовыми навыками и знаниями иностранного языка лучше овладевать целенаправленно, систематически, системно на своей Родине с преподавателями, которым знакомы особенности вашего родного языка. До того, как вам придётся попасть в открытый океан иностранного языка за границей. Особенно во взрослом возрасте. Взрослые, которые овладевают языком «диким» способом за границей могут быстро нахвататься поверхностных, беглых навыков, то есть выплыть, не утонуть в океане, но и только. Как глупо хвасталась в Фейсбуке одна моя очень недалёкая знакомая из Лиона, говорящая и пишущая со стилистическими и грамматическими ошибками даже по-русски, несмотря на сотрудничество в крупной телевизионной фирме: «Я выучила три языка в постели с моими тремями мужьями». Как правило, всю оставшуюся жизнь такие горе-ученики будут постоянно ошибаться и говорить с сильным акцентом (так сказать, плохо и неправильно плавать). Для взрослых систематическая база навыков на начальном этапе должна приобретаться только за партой, в учебной аудитории, под бдительным и требовательным оком специализированного преподавателя. Считается, что в процессе овладения иностранным языком преподаватель, учитель играет главную роль. Это не так. Вернее, не совсем так. Это верно только на начальном этапе, когда закладываются основы навыков, база. Но как только ученик способен более-менее самостоятельно стоять на своих двоих, дальше главное зависит уже только от него. Никакой тренер, самый способный, великий и мудрый, не может заменить собой спортсмена на соревнованиях. Медали завоевывают спортсмены, а не тренеры. Преподаватели только сопровождают, более или менее удачно, учеников в раскрытии и развитии их талантов. Некоторые ушлые и дошлые даже из неплохих преподавателей в условиях рынка идут если не на обман, то на ухищрение. Они отбирают в классе самых способных учеников и именно им уделяют своё основное время. В результате, у таких преподавателей складывается некий ореол «делателя чемпионов»: смотрите, сколько его учеников поступило в престижные ВУЗы! А такие учителя просто имеют нюх на таланты (что тоже некий преподавательский талант), часто паразитируя на успехах своих талантливых учеников. Чемпионами не становятся, а рождаются. Талантливый спортсмен с потенциалом олимпийского чемпиона сможет и без тренера раскрыть свой чемпионский потенциал. Ему просто будет сложнее это сделать в одиночку или со слабым тренером. Обратное же просто невозможно. Никакой самый замечательный тренер никогда не сможет сделать, как по мановению волшебной палочки, из слабого, посредственного спортсмена олимпийского чемпиона. Но хороший, опытный тренер способен увидеть большой природный потенциал, заложенный в спортсмене, и помочь ему раскрыть этот потенциал. Так и в языках. Весь потенциал заложен в нас самих. Преподаватели лишь могут (или не могут) помочь нам раскрыть наши способности на полную мощь. Верить надо не в преподавателя или чудо-методику (часто встречаешь рекламные объявления о так называемых шпионских, секретных, чудодейственных методах овладения иностранными языками), а в себя и в свою собственную работу. Тяжелый труд по овладению лингвистическими навыками. Работу, которая, однажды начавшись, уже не заканчивается никогда. © Copyright: Сергей Жирнов, 2014 Свидетельство о публикации №214012701047 |
|
Глава 4.3. КАК Я СТАЛ
ФРАНКОФОНОМ. Один первый курс МГИМО (хотя он формально и не считался языковым ВУЗом, ибо нашей профессией была вовсе не чистая лингвистика как в инязах, а дипломатия, внешняя торговля, международная журналистика и международное право со знанием иностранных языков), давал гораздо более глубокие лингвистические познания и уверенные навыки во владении иностранными языками, чем пять лет обычной средней школы. Сюда входили не только упражнения из учебников, но и прослушивания магнитофонных записей, просмотр учебных фильмов и очень много интенсивной, регулярной практики в очень маленькой языковой группе, где нельзя, невозможно отсидеться, спрятаться за чьей-то спиной, обмануть, сделать вид. Успехи в овладении французским языком в МГИМО помогли мне освободиться от давнишней морально-психологической зависимости от одной школьной учительницы. Безусловно, неординарной, но чрезмерно ставившей себя над учениками и паразитирующей на их талантах. Делавшей вид, что именно её «великий вклад» играет определяющую роль в раскрытии талантов учеников. Переоценка своих возможностей чаще всего заводит в тупик. Но и их недооценка способна затормозить раскрытие собственных талантов. Мои личные успехи в овладении абсолютно нового языка, безо всякой помощи со стороны старой учительницы, позволили мне окончательно эмансипироваться, наконец, трезво и адекватно оценить собственные способности и возможности. Ибо после овладения базовыми навыками, в большей степени играла роль даже не стандартная программа в студенческой аудитории, а самостоятельная, внеклассная, дополнительная личная работа, способность создать себе виртуальный мир языка без общения с его носителями и без выезда за границу. Нынешнее поколение детей, подростков и молодежи, выросшее с современными компьютерами, ай-фонами, ай-пэдами и прочими цифровыми переносными устройствами с практически безграничной памятью и с огромным ресурсом энергии, с неограниченным доступом к качественным музыкальным, аудио, видео, радио и киноархивам через Интернет, ДВД и спутниковое телевидение, даже представить себе не может, каких трудов нам стоило раньше создать себе аудио-визуальное погружение в иностранный язык в брежневском СССР! У нынешнего поколения нет никаких отговорок в случае невладения иностранными языками, кроме собственной тупости и лени. Французских лицензионных пластинок даже в Москве в 1970-е годы в наших магазинах почти не продавали. «Родные», иностранные диски стоили безумно дорого на чёрном рынке. Поэтому первый год у меня был всего один большой диск, малоизвестного в СССР (поэтому его диск и лежал на полках магазина «Мелодия») шансонье Ги Беара – французского барда типа Александра Дольского, исполнявшего песни собственного сочинения со словами, с множеством разных, красивых и необычных слов. Это вам был не попсовый, хоть и симпатичный Джо Дассэн! Всё, что ни делается, всё – к лучшему! Потому что, окажись у меня сразу много пластинок, я бы их слушал вперемежку, и толка от этого не получилось бы. А так мне приходилось слушать один и тот же диск, снова и снова (бедные мои соседи и родители с сестрой и бабушкой!). В результате, не понимая, я выучил его наизусть, фонетически уже тогда, когда в текстах песен осмысленно разбирал ещё только несколько десятков самых простых слов. На летних каникулах после первого курса, во время работы в студенческом строительном отряде, от нечего делать, я вспомнил, как некоторые старинные литературные персонажи овладевали несколькими иностранными языками по самой знакомой им книге – Библии, которую они исходно и хорошо знали на родном наречии, что позволяло в рекордные сроки овладевать другим языком.  Библии я тогда не читал вовсе, но зато в детстве раз двадцать, если не тридцать, перечитывал «Трёх мушкетёров» Александра Дюма. И вот, наткнувшись на их французское издание, уж и не помню точно где – в книжном ли магазине на улице Веснина, в Доме книги на Калининском проспекте, в букинистическом на улице Качалова или в «Прогрессе» на Садовом кольце у станции метро «Парк культуры имени Горького» – я начал их перечитывать запоем уже в оригинале, на французском. Это оказалось на удивление просто, учитывая моё знание русского текста чуть не наизусть. И за лето, перечтя роман раза три-четыре на французском, я расширил свой «вокабуляр» (словарный запас) на порядок или два – по сравнению с моими однокурсниками, которые в каникулы дополнительно не занимались и остались на стандартном уровне первого учебника Поповой-Казаковой. Коллекция дисков тоже расширилась. Появились пластинки Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Мишеля Сарду, Сержа Лама, Ива Дютея, Паташу, Джо Дассэна, французских сказок и басен Ляфонтэна. Входила в моду группа Атаван, которая пела не только по-английски, но и по-французски. Каждое воскресное утро по радио шёл «Музыкальный глобус» с гениальным журналистом всех времён и народов Виктором Татарским, который не забывал освещать и песенную традицию Франции. Временами по телику шли большие концерты Джо Дассэна и Мирей Матьё. По четвёртой программе телевидения, где со временем я займу место ведущего и автора передач, еженедельно показывали уроки французского. Пока без меня, пока – для меня. На французском языке, при отличном качестве приема, вещало Московское радио, Голос Москвы, но содержание программ было таким кондово пропагандистским и откровенно совковым, что его я перестал слушать, как только стал понимать, что там говорилось. На коротких волнах можно было поймать «Радио Франс Интернасьональ», которое не глушилось нашим КГБ в отличие от русских служб «Голоса Америки», Би-Би-Си, «Свободы» или «Немецкой волны». В общем, при большом желании, «погружение» в язык получалось даже в брежневском застойном СССР. И тут на советском горизонте замаячила Олимпиада-80. © Copyright: Сергей Жирнов, 2014 Свидетельство о публикации №214012901488 |
|
Глава 4.4. ОТ БРЕЖНЕВИАДЫ ДО
ПУТИНИАДЫ Уроки официальной истории Московской Олимпиады 1980 года. В СССР, как и во всех иных идеологизированных диктатурах, в частности, в гитлеровской Германии, большой спорт использовался для мобилизации морального духа оболваненных народных масс, для демонстрации силы и престижа империи за её рубежами. Путин, в этом смысле, является прямым идейным продолжателем идеалов Адольфа Хитлера с его нацистской Олимпиадой 1936 года и брежневского руководства с Олимпиадой-80. Первая попытка высшего советского партийного и государственного руководства добиться согласия МОК в 1970 году – по утверждению Москвы в качестве столицы Олимпиады 1976 года – не увенчалась успехом. Но кремлевские старцы не успокоились. Шла «холодная война», и большой спорт в ней играл огромную роль. Супер-держава, на роль которой тогда ещё вполне заслуженно претендовал СССР, не могла не стать организатором самого престижного спортивного мероприятия на планете. Политбюро ЦК КПСС приняло 9 сентября 1971 года постановление: «О выдвижении кандидатуры Москвы на проведение XXII летних Олимпийских игр 1980 г.» (протокол № 16 от 9 сентября 1971 г.). Во исполнение коего последовало Обращение Исполкома Московского городского Совета депутатов трудящихся в МОК. Очень показателен тут факт отрицания существования на деле в СССР реальной советской власти. Ибо не Советы депутатов трудящихся были инициаторами и руководителями общественно-политической и государственной жизни в стране, а партийные инстанции, которые приказывали Советам всех уровней, что им надлежит делать. На кону стоял престиж КПСС. Впервые проводившаяся «за железным занавесом», в социалистической стране московская Олимпиада была призвана стать визитной карточкой коммунистического и социалистического лагеря, продемонстрировать рост открытости СССР в связи с начавшимся процессом разрядки международной напряженности, особенно в плане реализаций договорённостей так называемой «третьей корзины» Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанного 1 августа 1975 года в столице Финляндии Хельсинки. Самые престижные всемирные спортивные состязания автоматически оказались в центре ожесточенного идеологического, политического, военного, экономического, спортивного и культурного противоборства двух социально-политических систем, сделавшись заложниками политических амбиций непосредственных организаторов и руководителей «холодной войны». Руководство КПСС и СССР, как и нынешний путинский режим, поставило на Олимпиаду весь свой престиж, сделало из неё вопрос чести, задействовав на её реализацию чуть не все имевшиеся в его распоряжении средства – политические, дипломатические, экономические. И весь арсенал спецслужб: разведки, контрразведки, политической полиции. Ещё за полгода до объявления решения МОК о столице будущей Олимпиады-80, советская внешнеполитическая разведка – Первое главное управление КГБ СССР – провела секретную спецоперацию по оперативно-агентурному проникновению в Международный олимпийский комитет, вербовке агентов влияния, подкупе его членов и доложила Политбюро ЦК КПСС о «благоприятном для Москвы раскладе мнений его членов». 23 октября 1974 года в Вене на 75 сессии Международного Олимпийского комитета (МОК) столица Советского Союза была избрана местом проведения будущих XXII летних игр, опередив на 19 голосов кандидатуру главного идеологического противника СССР – США с городом Лос-Анджелесом. 20 февраля 1975 года Совет Министров СССР принял решение о создании Организационного комитета Олимпиады-80, председателем которого был утвержден заместитель председателя союзного Совмина Игнатий Трофимович Новиков. В соответствии с планами деятельности Оргкомитета Олимпиады-80 все министерства и ведомства получили задания, которые были интегрированы в 10-ый пятилетний план народно-хозяйственного развития страны, утвержденного XXV-ым съездом КПСС в феврале-марте 1976 года. Это касалось строительства и реконструкции спортивных сооружений и объектов инфраструктуры не только Москвы, но и некоторых других городов, где предполагалось проведение отдельных составляющих Олимпиады – Таллинна (парусная регата), Ленинграда, Киева и Минска (футбольный олимпийский турнир). По заведённому в СССР бюрократическому распорядку в структуре Оргкомитета Олимпиады-80 были созданы несколько десятков комиссий, в том числе: комиссия информации и пропаганды и комиссия по вопросам безопасности и общественного порядка. От Комитета государственной безопасности СССР в комиссию по вопросам безопасности и общественного порядка Оргкомитета Олимпиады-80 вошёл начальник Пятого управления (идеологическая контрразведка) КГБ СССР Филипп Денисович Бобков, заместитель начальника Оперативного штаба Комитета госбезопасности СССР по обеспечению безопасности Олимпиады, который возглавил первый заместитель председателя Виктор Михайлович Чебриков. Интересен факт, который идеологи путинского режима и официальные биографы Путина с большой тщательностью и целенаправленностью покрывают густым мраком чекистского тумана. Точных сведений о деятельности Путина в 1980 году в его официальных справках и биографиях не содержится. Туманно намекается на его гипотетическую шестимесячную оперативную учёбу в Высшей школе КГБ в Москве. Однако глубокий анализ позволяет сделать более чем вероятное предположение об откомандировании, среди тысяч других, тогдашнего мелкого чекиста из Ленинградского УКГБ в столицу СССР на обеспечение безопасности Олимпиады-80. Только кадровых офицеров КГБ СССР, собранных со всего Союза, Олимпиаду-80 «охраняло» порядка 15 тысяч. Вернее, они не столько охраняли Олимпиаду, сколько «пасли» иностранцев и тех немногих советских граждан, которым посчастливилось оказаться в закрытой для въезда собственных граждан Москве, прорваться через кордоны милиции и чекистов, через барьеры агентуры КГБ среди обслуживающего персонала Игр, чтобы попытаться «свободно пообщаться» с представителями стран свободного мира. Для особенно рьяных сторонников укрепления мира и дружбы между народами, слишком доверчиво и прямолинейно понявших лживые призывы советской партийной номенклатуры «не ударить лицом в грязь», это закончилось допросами и профилактикой органов госбезопасности. 23 декабря 1975 года было принято закрытое постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О мерах по подготовке и проведению Олимпийских игр 1980 года». Период брежневского восемнадцатилетнего правления в истории остался как «период застоя» страны. Сам престарелый генсек ЦК КПСС к концу своего пребывания на вершине власти в СССР оставил о себе воспоминание выжившего из ума маразматика, обвешанного с головы до задницы незаслуженными орденами и медалями, едва способного двигаться и уже не могущего членораздельно произносить пару слов. Но наши представления о той эпохе и её лидерах не всегда соответствуют исторической правде. Подтверждением тому является тот любопытный факт, что буквально через пару дней после закрытого принятия секретного постановления ЦК КПСС и Совмина СССР «О мерах по подготовке и проведению Олимпийских игр 1980 г.», Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев написал 25 декабря 1975 года своему ближайшему помощнику и одному из его будущих преемников на высших партийном и государственном постах К.У. Черненко (для предварительной проработки с членами Политбюро ЦК) записку следующего удивительного содержания: «Как-то сложилось таким образом, что нами принято решение провести спортолимпиаду в СССР. Стоит это мероприятие колоссальных денег. Возможно, этот вопрос нам следует пересмотреть и отказаться от проведения Олимпиады. Знаю, что это вызовет много кривотолков. Но при решении данного вопроса на первый план выдвигаются вопросы о стоимости этого мероприятия… Мне подсказали, что есть возможность отказаться от этого мероприятия, уплатив какой-то небольшой взнос в виде штрафа. Из опыта проведения подобных Олимпиад в прошлом могут быть разного рода скандалы, которые могут очернить СССР.» В целом на проведение Олимпиады-80 только союзным бюджетом СССР выделялось свыше 2 миллиардов рублей на прямые расходы. Не учитывая «серое» использование огромных сил и средств нескольких республик, многих советских министерств, ведомств, государственных предприятий и организаций за счёт их собственных бюджетов, что официально не включалось в общие расходы на Брежневиаду. Что, однако, не идёт ни в какое сравнение с 70 миллиардами долларов, истраченными на путинскую Распилиаду (из которых, как минимум, треть банально разворована). Но и то Брежнев весьма быстро засомневался в продуктивности и реальной необходимости для страны этого запредельно дорогого пиар-мероприятия. Его коллеги по Политбюро ЦК КПСС тогда не позволили возобладать прагматическому взгляду на Олимпиаду-80. Потребности идеологии и совковой пропаганды перевесили здравый смысл. Однако сторонники ненужных и огромных трат на призрачное завоевание положительного имиджа для СССР и не предполагали тогда, что их ждёт полный провал. Из-за скандальной истории с международным бойкотом Олимпиады-80 после санкционированного Политбюро ЦК КПСС и проведенного спецподразделениями КГБ СССР государственного переворота в декабре 1979 года в Афганистане и последовавшей за ним военной авантюры, стоившей сотни тысяч жизней советских парней и многие десятки миллиардов рублей, легших тяжким беременем на и так недостаточно эффективную и надрывавшуюся советскую экономику. Десятилетней авантюры, которая в конечном итоге закончилась военным, идеологическим и политическим поражением СССР, и которая, безусловно, сыграла свою негативную роль в окончательном распаде советской империи в декабре 1991 года. Путин, которому незаслуженно приписывают проницательность оперативника КГБ и железную логику чекиста-аналитика, на самом деле (и как обычно) не способен сделать правильных выводов, лежащих на поверхности, и вынести элементарных уроков из исторических ошибок его предшественников. Франция, январь 2014 года. © Copyright: Сергей Жирнов, 2014 Свидетельство о публикации №214011901343 |
Глава 4.5. КАК Я ГОТОВИЛСЯ
СТАТЬ ОЛИМПИЙСКИМ ГИДОМ-ПЕРЕВОДЧИКОМ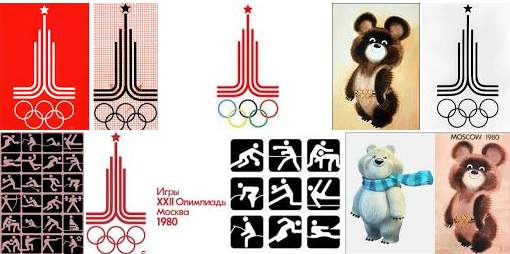 На втором курсе МГИМО, в дополнение к стандартной лингвистической подготовке, которая включала не только общий языковой курс, но уже и политперевод, нам предложили дополнительную языковую подготовку по специальной программе спортивных гидов-переводчиков Оргкомитета Олимпиады-80. Лично я согласился, не задумываясь, хотя это было связано с лишними шестью часами в неделю (три дня по два часа) в довольно позднее и неудобное время. Кстати, за небольшую дополнительную плату к стипендии. Это была песня! В тот период французским языком, в разных видах и в общей сложности, я занимался ежедневно по 8-10 часов в день, включая самостоятельную подготовку. И учитывая чтение французской художественной литературы в оригинале за 4 часа ежедневной дороги на общественном транспорте из подмосковного Зеленограда, с сорок первого километра Ленинградского шоссе, на другой конец Москвы, на крайний юго-запад, в места обитания главного героя «Иронии судьбы» и обратно. За учебный год дополнительно к институтской программе я прочёл почти всего Дюма. Занялся Гюго, Мольером, Мопассаном, Базэном, Арагоном, Триолэ, Мартэн дю Гаром и др. Начал регулярно почитывать французские газеты и журналы. Даже коммунистическая «Люманитэ» по сравнению с газетой «Правда» была источником свежих и относительно нецензурированных сведений с другой стороны «железного занавеса», который, благодаря разрядке международной напряжённости, и так становился всё более довольно прозрачным, хотя андроповский КГБ активно глушил «вражеские голоса», вещавшие на нашу страну на русском языке и на наречиях народов СССР из-за рубежа. Сейчас, 35 лет спустя, вспоминая то время, я сам уже не могу поверить, как тогда мне физически удавалось поднять такой массив информации, переварить его, освоить. И это – только по одному, в общем непрофильному предмету, не считая всех остальных специальных предметов в рамках прямой будущей профессии экономиста-международника, а также общественных нагрузок и житейских радостей обычного студенческого молодого существования. К концу второго курса мой реальный уровень владения языком сравнялся с теми тремя-четырьмя приятелями, которые не просто заканчивали до поступления в МГИМО известные московские французские спецшколы, но и жили раньше с родителями в Париже, учились в настоящих французских школах и лицеях, владели не только стандартным академическим языком, но и его разговорными формами, школьным жаргоном, уличным арго. Я стал физически ощущать себя франкофоном, мыслить на французском языке, видеть сны по-французски. Спортсмены олимпийского резерва по всему миру готовились к соревнованиям, а я заканчивал свою собственную усиленную предолимпийскую лингвистическую, культурную и страноведческую подготовку. К началу Московской Олимпиады-80 я ощущал себя скороваркой, в которую два года постоянно что-то добавляли и сильно разогревали. Знания, навыки и умения сдерживать в себе больше не было сил. Нужно было выпускать лингвистический пар. Срочно требовалась практика. Но студентам МГИМО было запрещено иметь несанкционированные контакты с иностранцами. А на меня, жителя секретного центра советской электроники – Зеленограда, распространялись ещё и дополнительные ограничения по охране секретов, которых я не знал, но мог знать, с точки зрения наших бдительных чекистов. Спасти могла только официальная работа гидом-переводчиком на Олимпиаде с прямым и непосредственным контактом с живыми и настоящими французами и франкофонами. Срочно! Терпеть больше было невозможно! © Copyright: Сергей Жирнов, 2014 Свидетельство о публикации №214013001054 |
Глава 4.6. ОЛИМПИЙСКАЯ ОСАДА И
ОБОРОНА БРЕЖНЕВСКОЙ МОСКВЫ Меж тем брежневская Москва заканчивала подготовку к Олимпиаде-80. Подходило к концу авральное строительство новых олимпийских объектов и реконструкция старых спорткомплексов. Из города чуть не принудительно выгонялись все «лишние», с точки зрения брежневского режима, люди. Детей всех возрастов отправляли на все лето в отдалённые пионерские лагеря, студентов – в дальние ССО, добропорядочных рабочих и служащих – в отпуска по путёвкам куда угодно, лишь бы подальше от столицы, бывших заключённых и прочих неблагонадёжных – за 101-ый километр от Москвы. Город пустел и вымирал на глазах. На пригородных поездах и электричках перестали свободно продавать билеты в Москву жителям Московской и других близлежащих областей без особой на то причины (командировка, справка из больницы и т.п.). На подъездах к городу, вкруговую по МКАД, появились КП и блок-посты, на которых досматривались все автомобили, автобусы и у всех пассажиров поголовно проверялись документы. От Комитета государственной безопасности СССР в комиссию по вопросам безопасности и общественного порядка Оргкомитета Олимпиады-80 вошёл начальник Пятого управления (идеологическая контрразведка) КГБ СССР Филипп Денисович Бобков, заместитель начальника Оперативного штаба Комитета госбезопасности СССР по обеспечению безопасности Олимпиады, который возглавил первый заместитель председателя Виктор Михайлович Чебриков. Интересен факт, который идеологи путинского режима и официальные биографы Путина с большой тщательностью и целенаправленностью покрывают густым мраком чекистского тумана. Точных сведений о деятельности Путина в 1980 году в его официальных справках и биографиях не содержится. Туманно намекается на его гипотетическую шестимесячную оперативную учёбу в Высшей школе КГБ в Москве. Однако глубокий анализ позволяет сделать более чем вероятное предположение об откомандировании, среди тысяч других, тогдашнего мелкого чекиста из Ленинградского УКГБ в столицу СССР на обеспечение безопасности Олимпиады-80. Тут следует привести курьёзный факт, что почти все мусорщики и уборщики на олимпийских объектах были переодетыми кадровыми сотрудниками КГБ. Потому что это позволяло иметь значительный штат готовых ко всему вооружённых людей, не привлекавших к себе особого внимания на фоне тех чекистов, которые были открыто одеты в милицейскую форму. Так что, совсем даже не исключено, что замалчивание реальной биографии нашего нынешнего верховного чекиста Путина в олимпийский период связано с тем, что шесть месяцев он проходил в Москве буквально с метлой дворника. Это само по себе не зазорно – кроме палачей, стукачей и диктаторов, нет постыдных профессиональных занятий. Но разрушает миф о Путине, как якобы о доблестном кадровом сотруднике внешней разведки, в которой он никогда по-настоящему не служил. Всего же кадровых офицеров КГБ СССР, собранных со всего Союза, Олимпиаду-80 «охраняло» порядка 15 тысяч. Вернее, они не столько охраняли Олимпиаду, сколько «пасли» иностранцев и тех немногих советских граждан, которым посчастливилось оказаться в закрытой для въезда собственных граждан Москве, прорваться через кордоны милиции и чекистов, через барьеры агентуры КГБ среди обслуживающего персонала Игр, чтобы попытаться «свободно пообщаться» с представителями стран свободного мира. Для особенно рьяных сторонников укрепления мира и дружбы между народами, слишком доверчиво и прямолинейно понявших лживые призывы советской партийной номенклатуры «не ударить лицом в грязь», это закончилось допросами и профилактикой органов госбезопасности (но об этом – немного позже). Москва переходила на осадное олимпийское положение и одновременно вступала в тот самый коммунизм, о котором когда-то трендоболил великий трепач всех времен и народов – товарищ Никита Сергеевич Хрущёв, согласно громогласному пустому обещанию которого и принятой с его подачи новой программе КПСС, ещё поколение наших родителей должно было к 1980 году жить при коммунизме. Организованная свергнувшими «хруща» в октябре 1964 года его бывшими соратниками Брежневым и Косыгиным Олимпиада-80 временно выполнила принципиально невыполнимые обязательства бывшего развенчанного вождя партии и главы правительства, оказавшегося «волюнтаристом» и «кукурузником». Но выполнила только в масштабах отдельно взятой олимпийской Москвы. Ибо, когда, благодаря осадному положению и вооружённой охране, исчезла опасность массовых товарных десантов, налётов из голодающего Подмосковья, в московских магазинах, особенно в центре города, на пару летних месяцев появилось всё то былое столичное товарное изобилие конца 1950-х – начала 1960-х годов, о котором уже стали забывать даже коренные москвичи, старожилы, как мои бабушка или папа. Промтоварные магазины наводнились олимпийской символикой. Стилизованная московская сталинская многоэтажка в виде полосок беговой дорожки, пять колец, олимпийский Мишка. Надо признать, что народ охотно приобретал эти новые советские товары со знаком качества, проникнутые особым патриотизмом. Одновременно в столице СССР появились невиданные простыми советскими людьми прелести западной жизни, которая формально подвергалась жёсткой идеологической критике: лицензионные сигареты Мальборо, Пепси-Кола, Фанта, тонко порезанный и чудно расфасованный финский сервелат, исландская селедка в разных соусах, одноразовая пластмассовая посуда и тому подобное. Московский метрополитен имени товарища Ленина – вождя международного пролетариата, проведшего часть эмиграции в Лондоне, заговорил по-английски. “Mind the doors! Next stop Novoslobodskaya!” – красиво империалистически предупреждала из динамиков метро наших потенциальных классовых врагов и их прихвостней, замешавшихся среди советских граждан, скрытая от глаз бдительная блондинка-чекистка. При том, что полным ходом шла кровавая бойня в Афганистане за призрачный «интернациональный долг». Первые сотни и тысячи цинковых гробов с изуродованными телами советских мальчиков стали поступать пресловутым грузом №200 из формально братской и условно социалистической страны Востока в качестве предолимпийского подарка советскому народу и кремлёвским старцам, заварившим эту геополитическую кашу. На международной арене разгорался планетарный скандал с бойкотом московской Олимпиады. Радио и телевизионный эфир раскалился добела, передавая пропаганду и контрпропаганду. Приедут иностранцы или не приедут? Кто не приедет? Если всё же приедут, то пойдут ли на церемонии открытия под своими национальными флагами или под флагом МОК? «Холодная война» перешла в свою горячую фазу. © Copyright: Сергей Жирнов, 2014 Свидетельство о публикации №214013001211 |
Глава 4.7. КРУШЕНИЕ НАДЕЖД
ОЛИМПИЙСКОГО ГИДА-ПЕРЕВОДЧИКА Мы, студенты идеологического ВУЗа, готовились к непримиримым очным идеологическим схваткам, к рукопашной, к отпору прямого злобного натиска империалистических врагов, к идеологическим диверсиям и шпионским проискам. Но, при этом, мы были молоды и оптимистичны. Никогда не выезжавшие за рубеж, надеялись повстречаться лицом к лицу и поговорить, наконец, с настоящими иностранцами, из капстран, из стран изучаемых языков. Лично я – с французами, франко-говорящими бельгийцами, швейцарцами из романской части Эльветии, канадцами из Квебека, выходцами из других стран мировой Франкофонии. Наша мгимошная группа олимпийских гидов-переводчиков сдала дополнительные квалификационные экзамены и ждала распределения на работу в качестве волонтёров – на передовой край идеологической борьбы между двумя системами. Решение мандатной комиссии Оргкомитета Олимпиады грянуло в начале июля как гром среди ясного неба. Наша подлая, коварная и гнусная партия согласилась доверить нам идеологический лингвистический бой на самом ответственном участке: на специально организованной на время Олимпиады многоязыковой справочной телефонной службе «09». Это было ужасно. Вместо того чтобы, как было обещано, вариться в гуще международных олимпийских соревнований и культмассовых мероприятий со спортсменами, молодежью и болельщиками из зарубежных стран, нам предстояло провести месяц в наглухо закрытом помещении, отвечая на звонки по телефону. Никаких живых иностранцев мы не увидим, как своих ушей. Большего разочарования я не испытывал за всю свою тогдашнюю жизнь. Гады! Внутренне сомневавшийся уже давно, я окончательно сделался убеждённым антисоветчиком именно в тот роковой день. За что боролись? Ради чего недосыпали? Зачем готовились в поте лица целый год? Овладевали огромным массивом спортивной лексики, секретами проведения досуга в Москве и олимпийской программой? Мы – студенты самого престижного в стране ВУЗа? Олимпийские гиды-переводчики! Блин. Должны были стать на полтора месяца телефонистками. Немногие умные люди среди нас, дальновидно отбодавшиеся от этой заманчивой обманки партии и правительства, уже разъехались по курортам. Я мог бы провести всё лето на Северном Кавказе, почти задарма, потому что мои родичи тогда заведовали базой горного отдыха Московского института электронной техники в горах Карачаево-Черкессии, всего в паре дней пешего перехода от Озера Рица, Красной поляны, черноморских пляжей курортов западной Грузии и Большого Сочи. Каким же идиотом я оказался! Клюнул на олимпийскую приманку партии и правительства! Как последний лох. У меня это оказывался уже третий потерянный год подряд. Лето в год окончания школы было убито на выпускные школьные и вступительные институтские экзамены, а потом – на добровольно-принудительную работу на авральной достройке институтской столовой в новом комплексе зданий МГИМО на юго-западе. Лето после окончания первого курса ушло на добровольно-принудительную работу в ССО, в Москве, без возможности выезда на отдых, хоть на немного. И вот снова-здорово! Но отступать уже было поздно. Порядок есть порядок. Хотя бы внешний. Партия сказала «Надо!», комсомол ответил «Есть!». В очередной бессмысленный раз. Однако, по сравнению с теми простыми советскими ребятами, которые также бессмысленно гибли и калечились в Афганистане, мы всё же были в привилегированном положении. Не было никакого желания исполнять идиотский приказ, но и вступать в открытое противостояние с совковым режимом было преждевременно и самоубийственно. Итак, я должен был приступить к олимпийской работе на московской справочной телефонной службе «09», которая числилась во время СССР стратегическим, особо режимным, чуть не секретным объектом. Его территориальное расположение было и остаётся мало кому известным в Москве. Там теперь проходила линия идеологического фронта. Но об этом я, бог даст, расскажу уже в другой раз. |
|
|
|
Всё, что находится ниже этой линии, не имеет к нашему сайту никакого отношения. Извините, но бесплатный хостинг имеет свои недостатки. |